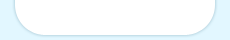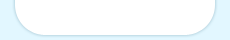К роженицам в роддом мы не пошли тогда из-за Веньки. Он остановился прямо посреди улицы и сказал, что больше такой возможности не будет. Что если “давим стиль”, то надо давить до конца и что Гленн Миллер нам этого не простит.
Мы с Колькой переглянулись и начали считать деньги. На троих нам хватало, но в буфет до стипендии можно было больше не заходить. Ежемесячный перевод из дома к этому времени тоже дал дуба.
– Гленн Миллер будет доволен, – подмигнул Венька, и вместо роддома мы отправились в знакомую нам уже квартиру на Ленинградском.
Размышляя о том, каким образом Гленн Миллер может узнать, на что мы потратили наши последние деньги, я помог какой-то девушке в желтом платье укрепить на стене простыню.
– Спасибо, – сказала она и сделала смешной книксен. – Вы очень любезны.
– Может, вы уйдете оттуда? – начали кричать на нас остальные. – Мы на вас, что ли, пришли смотреть?
Я сел на свое место и стал наблюдать за девушкой.
– Чувак, – толкнул меня через минуту сосед слева. – Эй, чувак, ты вино будешь? Белое сухое. Домашнее. Из Крыма вчера привезли.
– Нет, чувак, – ответил я. – Хочу посмотреть “Серенаду”. С вином будет не то.
– Уважаю, – сказал сосед. – Такой ништяк оценить можно только на трезвую голову. А я долбану. Точно не хочешь?
– Да нет, спасибо, чувак.
– Ну давай. Только потом не обижаться. Договорились?
Но фильм я практически не смотрел. Даже когда все в комнате затопали ногами и закричали: “Чу-ча!”, я несколько раз довольно вяло притопнул и продолжал смотреть на слегка волнистый экран из простыни, не очень-то следя за тем, что там происходит.
Потому что не было необходимости. “Серенаду солнечной долины” я знал наизусть. Три раза видел ее в кинотеатре, и два – в этой квартире на Ленинградском. Тут жили какие-то Венькины приятели, у которых можно было не только посмотреть “Серенаду”, но и купить дорогущий галстук с обезьяной. Венька говорил, что все галстуки прямо из Штатов.
Считая сегодняшнюю оказию с булькающим слева от меня чуваком из Крыма, для нас это была уже шестая возможность сделать так, чтобы Гленн Миллер до смерти ни на кого не обиделся. Я сильно подозревал, что по этой причине даже у себя в Штатах он мог считать себя самым счастливым чуваком.
А если не он, то хозяева квартиры – это уж точно. На те деньги, что мы и все другие стиляги приносили им за просмотр, наверняка можно было купить что-нибудь грандиозное.
Я стал смотреть по сторонам и в мерцающей полутьме, кажется, все-таки разглядел новое кресло. Во всяком случае, в наш первый приход его в этой квартире не было. Венька сейчас, разумеется, развалился именно в нем. Откинулся на спину и дирижировал.
Вторая причина моего втайне сдержанного отношения к “Серенаде” называлась “Небесный тихоход”. Когда Николай Крючков в этом фильме начинал петь “Махну серебряным тебе крылом”, по спине у меня всегда бежали мурашки. Может, это было связано с тем, что отец во время войны командовал эскадрильей дальних бомбардировщиков, а может быть, с тем, что меня самого полтора года назад не взяли по здоровью в Актюбинское летное училище, и назло всем этим врачам я поехал в Москву и поступил в медицинский.
Трудно теперь сказать, какая из двух причин была для меня важнее, однако мурашки от песни Крючкова по спине бегали регулярно, и Веньке в этом признаваться я не спешил.
Потому что мы должны были “давить стиль”. Или “стилять”.
В разном настроении Венька употреблял разные слова. Когда денег хватало не только на мороженое и на то, чтобы торчать целый вечер на улице Горького напротив Центрального телеграфа, прячась время от времени в подъездах соседних домов от комсомольских оперотрядов, мы могли “постилять” в кафе “Молодежное”. Там всегда “стиляли” фирменные чуваки и те девушки, которых Венька называл “золотые дукаты”. Познакомиться с “дукатом”, а тем более уйти с ней из кафе в его глазах было высшей стиляжной доблестью. Правда, пока этого ни с Колькой, ни со мной не случалось. Чаще мы все-таки “давили стиль” на “Бродвее” – или на “броде” – между площадью Маяковского и гостиницей “Националь”, разбегаясь, как тараканы, от бригадмильцев и стараясь не угодить в “полтинник”, то есть в отделение милиции №50. Из института за это бы точно поперли.
Впрочем, не только за это. Доцент Зябликова давно уже точила зубы на нашу троицу. На первом курсе, когда нас всех привели в анатомку, Венька притащил с собой муляж гниющей конечности, который для этой цели украл из институтского музея, и положил его во время перерыва Зябликовой в портфель.
Нас не выгнали только из-за вмешательства Колькиного отца. Филипп Алексеевич много лет проработал в журнале “Огонек” и был знаком с ректором института лично. К тому же Венька официально числился лучшим студентом на курсе. Профессура носилась с ним, как с писаной торбой. Не знаю уж, как они там чего разглядели, но практически каждый преподаватель время от времени ему говорил при всем курсе: “Вениамин, у вас от Бога медицинский талант. Вы прирожденный врач”.
Как будто я или Колька не получали точно такие же “пятаки” во время сессий. Или как будто Венькины “пятаки” были особенно медицинские, а наши – так, из другой оперы. И можно было из шкуры вон лезть, не спать ночами, зубрить бесконечные кости, изображать из себя великого доктора – все равно прирожденным врачом называли одного Веньку. Они его выбрали, и с этим уже ничего нельзя было поделать.
Так выбирают любимый цвет. Никто ведь не сможет ответить, почему ему нравится именно красный или, скажем, зеленый. И уж тем более никого не волнуют чувства того глупого цвета, который не выбрали.
Поэтому мы с Колькой просто получали свои не очень медицинские пятерки и грелись в лучах славы будущего светила.
Зато у Зябликовой теперь появился шанс отомстить. Или по крайней мере сильно испортить Веньке, а за компанию и всем нам, наше безоблачное “стиляжное” настроение.
Это была третья причина, по которой я не кричал теперь вместе с другими: “Чу-ча”.
– Жду завтра всех на семинаре по акушерству, – сказала Зябликова и, со значением улыбаясь, посмотрела на нас троих. – Вся группа может готовиться по обычному списку вопросов, а для вас, молодые люди, у меня будет особое задание.
– Сдурела совсем! – сказал Венька, когда мы вышли из института. – Тащиться в роддом обследовать беременных теток?!
Именно в этот момент ему и пришла в голову идея насчет Гленна Миллера. Очевидно, как противоядие.
Впрочем, скоро выяснилось, что у него было много идей.
– Слушайте, чуваки, – сказал он уже у Колькиного подъезда. – Хватит вам дуться. Сдаюсь – “Серенаду” сегодня можно было и не смотреть. Но зато я знаю, с кем поговорить о нарушениях в кровеносной системе в период беременности.
– С кем? – практически в один голос спросили мы.
– С Василисой Егоровной, остолопы. Она же тебя рожала. – Он посмотрел на Кольку. – Должна помнить...
– Ну я не знаю, ребята, – сказала Василиса Егоровна, глядя на нас в прихожей. – Это ведь давно было. Вы лучше переоденьтесь быстрей, а то Филипп Алексеевич может с работы прийти. Уже почти восемь.
Мы пошли в Колькину комнату и начали стягивать с себя узкие, как карандаши, брюки. Василиса Егоровна до определенной степени понимала трудности нашего поколения, а вот Филипп Алексеевич был человеком “на государевой службе” и о нашей непростой “стильной” жизни знать ему было совсем ни к чему. Ради нашего, естественно, блага.
И ради всеобщего торжества широких штанов, воспетых Маяковским, чей памятник, кстати, частенько служил для нас местом сбора.
Потому что широкие штаны Филипп Алексеевич уважал. Замечательный во всех отношениях человек, легкий и остроумный собеседник, он при этом любил цитировать Никиту Сергеича Хрущева и часто повторял, что хороший человек узких брюк не наденет.
Наденет или не наденет – на других мы не проверяли, но Колькин отец в скором времени должен был стать секретарем парткома редакции “Огонька”, и, следовательно, он наверняка собственноручно поубивал бы нас из своего трофейного “Вальтера”, если бы узнал, что те самые отвратительные стиляги, о которых с таким презрением и брезгливостью пишет его журнал, – это, собственно, мы и есть.
Они самые. Здрасьте.
А “Вальтер”, между прочим, был у него знатный. Надежный, увесистый и в то же время поджарый, как породистый пес. С аккуратной маленькой мушкой. Венька, как только увидел его, сразу сказал: “Да, чуваки, это не семьдесят восемь. Это настоящие тридцать три”.
Более высокой степени одобрения в его языке просто не существовало. Огромные толстые пластинки на 78 оборотов в минуту с песнями Бунчикова и Шульженко он ненавидел так, как обычный человек, то есть не стиляга, ненавидит смерть, или голод, или капитализм. В то же время редкие пока еще пластинки на 33 оборота были для него символом высшей справедливости и торжества человеческого разума.
Пистолет Филипп Алексеевич разрешал нам подержать только в своем присутствии. При этом обойма – даже пустая – всегда либо на столе, либо у него в руках. Щелкать курком тоже не разрешалось.
– А что если там остался патрон? – говорил Филипп Алексеевич и оттягивал затвор, чтобы показать нам тусклую впадину, где, естественно, никогда никакого патрона не было...
– Нет, я не помню то время, когда ходила с Колькой, – сказала Василиса Егоровна, отодвигая на край стола вазу с цветами и расставляя чайные чашки. – Война была. Все как-то мимо катилось. Куда там за беременностью следить! Выжили – и спасибо.
– Но хоть что-то вы должны помнить, – настаивал Венька. – Токсикоз, головокружение. Нас особенно интересуют вены. Вены под кожей не расходились? Такими крупными синяками?
– Я не помню, Венечка, – виновато сказала она. – Может, вам про что-нибудь другое рассказать?
– Нет, нам про другое не надо, – вздохнул Венька, но через секунду сам неожиданно переменил тему: – А можно нам тогда пистолет посмотреть? Пока Филипп Алексеевич не пришел с работы.
У “Вальтера” была своя история. Колькин отец на войне в атаку, разумеется, не ходил, потому что был журналистом, но в немецких окопах все же бывал. Спускался туда после боя, чтобы собрать материал для статьи – поговорить с бойцами, полистать документы убитых фрицев. И вот однажды под Сталинградом он то ли не разобрал, что бой еще не закончен, то ли немцы решили вернуться в отбитый уже у них окоп, но, когда он спрыгнул в траншею, прямо на него смотрел молоденький фриц.
Филипп Алексеевич рассказывал нам эту историю не один раз и при этом всегда подчеркивал, что фриц был очень молод. А так как сам Филипп Алексеевич нам казался глубоким стариком, то этот несчастный немец в наших мозгах навсегда застрял каким-то почти ребенком. И это было странно, потому что немцы были фашисты и не имели никакого права быть детьми. Их надо было убивать где только возможно.
Но фриц Филиппа Алексеевича был молод. Может, под Сталинградом тогда уже воевал “Гитлерюгенд”, а может, все это была только игра воображения не привыкшего к виду живых немцев Колькиного отца.
Так или иначе, но, рассчитывая на то, что в немецких окопах должны быть наши, Филипп Алексеевич и на этот раз не взял с собой автомат. Огромный ППШ мешал ему в узких траншеях.
Оказавшись лицом к лицу с этим немцем, он понял, что не успеет вытащить из кобуры свой “ТТ”. В руках у фрица уже был тот самый “Вальтер”. Немец навел его на Колькиного отца, но почему-то не выстрелил. Они постояли так несколько секунд, а потом фриц быстро сунул ствол себе в рот и нажал на курок. Почему он так поступил – Филипп Алексеевич так никогда и не понял.
Мы тоже этого не понимали, но были благодарны странному фрицу. Даже несмотря на то, что он был фашист. Потому что без Филиппа Алексеевича стало бы намного скучней...
– Как это ты не помнишь ничего про беременность? – сказал он, присаживаясь к столу. – Эх, Васька, ну что за память? Я лично все помню. Спрашивайте меня, товарищи медики. Что вас интересует?
Венька на секунду засомневался, но все же задал свой вопрос.
– Синяки? – переспросил Филипп Алексеевич. – Да-а, разумеется. По всему телу. И жилы вот такими узлами. Величиной с кулак.
Василиса Егоровна поперхнулась чаем, закашлялась и начала смеяться.
– Филя, им, правда, надо, – переведя дух, сказала она. – Скажи честно – помнишь или не помнишь?
– Все помню, как на духу. У твоей сестры после родов начался геморрой. Простите, не к столу будет сказано.
– Филя!
– Что – Филя? У Фили ничего не было. Ни до беременности, ни после. И у тебя ничего. Только на четвертом месяце возникло небольшое потемнение вот здесь, на локтевом сгибе. Я правильно говорю, товарищи медики? Это место называется локтевой сгиб?
– Перестань врать, Филя! Им серьезно надо для завтрашнего занятия.
– А кто врет? Вот тут у тебя было пятнышко. Васька, ты не поверишь, но я твое тело знал лучше, чем карту нашего наступления. Любо-о-овь! Так, молодежь, а ну-ка заткнули уши...
Они познакомились в декабре сорок первого года. Филипп Алексеевич несколько раз говорил нам, что напишет об этом книгу, но пока рассказывал устно. И видно было, что ему нравится рассказывать.
Редакция “Красной звезды” прикрепила его тогда к штабу 20-й армии, которая должна была отбросить немцев от Москвы в направлении Лобни и Ржева. Колькин отец напросился в передовые части, получил на складе буденовку и поехал отбивать деревню Катюшки. В общей сложности наши брали ее шесть раз. С Василисой Егоровной Филипп Алексеевич познакомился на третий.
В ту ночь он ползал по нейтральной полосе и разворачивал тела погибших красноармейцев головой к немецким позициям. Это было важно. От того, в какую сторону солдат упал головой, зависела судьба его близких. За трусость и предательство Родины отвечать должны были все.
Под утро он наткнулся на Василису Егоровну...
– Нет, Васька, ты мне скажи, – посмеиваясь, говорил Филипп Алексеевич. – Ведь мародерством приползла туда заниматься. Ну признайся, что за жратвой.
Но Василиса Егоровна уверяла, что хотела помочь нашим раненым, а тот сухпаек, который у нее оказался, она вытащила из немецкого вещмешка. Дохлых фрицев там тоже было навалом.
Потом, даже когда фронт ушел далеко на запад, Колькин отец, отправляясь за материалом на передовую, всегда старался проехать через Катюшки. За что, кстати, то и дело получал от начальства по шапке.
– А буденовка-то все еще, между прочим, при мне, – говорил он, вынимая из шкафа и надевая на голову потемневший остроконечный шлем с синей звездой. – Холодно только в ней было. Зима в тот год выпала, я вам скажу, “Гитлер – капут”.
Почему-то так получилось, что бойцы 20-й армии оказались тогда одеты в кавалерийское обмундирование времен гражданской войны. Неизвестно, это ли повлияло на решение Василисы Егоровны, но летом сорок второго они поженились, а осенью, уже в Москве, у них родился Колька.
Будущий стиляга и, может быть, врач.
– Я помню – совсем кормить его было нечем, – сказала Василиса Егоровна. – Вот это я помню. На карточки ничего для грудничков не давали, а у меня не было молока. Почему-то пропало. Наверное, от недосыпания. На крышах по ночам сидели. Тушили “зажигалки”. Я все боялась, что усну прямо там и свалюсь с пятого этажа. У нас в Катюшках выше голубятни ничего не было. И то ее потом миной снесло.
Продолжая наступать в декабре сорок первого, 20-я армия все дальше отбрасывала немцев от Москвы, а Филипп Алексеевич не спешил возвращаться в редакцию. За эти несколько недель наступления командующий армией генерал Власов стал любимым военачальником Сталина, и Колькиному отцу было понятно, что ни в какой другой фронтовой части такого материала для своих статей ему не найти. Он много писал о Власове, общался с ним, называл его в своих публикациях “новым Кутузовым” и “спасителем Москвы”. Никому даже в голову тогда не могло прийти, что 2-я Ударная, которой Власов будет командовать под Ленинградом, всего лишь через полгода попадет в котел, а сам генерал станет предателем.
– Не знаю, почему он не застрелился, – говорил Филипп Алексеевич, и в его обычно добродушном лице проглядывали такие жесткие черты, что мне, например, становилось не по себе.
После предательства Власова ему действительно пришлось нелегко. Допросы фронтового “Смерша”, допросы в штабе армии, допросы в Москве. Когда перевезли на Лубянку, он понял, что оставят в живых. Если бы хотели, могли расстрелять прямо у блиндажа особиста. Со многими так и поступили.
Но повезло. Кто-то на самом верху читал его фронтовые статьи и оценил их идеологическое значение. Ему разрешили вернуться на передовую и продолжать писать. Правда, только с “лейкой и блокнотом”. О редакционном “виллисе” он мог надолго забыть. Даже после войны никто не спешил предлагать “власовскому приспешнику” кабинет редактора.
Поэтому теперь, когда Филипп Алексеевич должен был вот-вот стать партсекретарем “Огонька”, а в дальнейшем, возможно, и главным редактором, в семье у Кольки царило предпраздничное, слегка нервозное оживление. То есть ни Колькиному отцу, ни его матери по большому счету не было никакого дела до наших проблем. С доцентом Зябликовой и нарушениями в кровеносной системе в период беременности нам предстояло разбираться самостоятельно.
– Ну что приуныли, товарищи медики? – сказал Филипп Алексеевич, разворачивая газету. – Свет клином на ваших синяках не сошелся... Нет, ты посмотри, что тут пишут! Нашли все-таки солдат на барже. Подобрал американский авианосец. Сорок девять дней в океане болтались... А мне в редакции сказали, что по радио прошло сообщение, но я не поверил... Надо же, как исхудали ребята... Где это, интересно, фотографировали? В Америке, что ли?
При слове “Америка” Венька вскочил из-за стола, забежал за спину Колькиному отцу и впился глазами в газету. Несколько минут они молча читали статью. Мы с Колькой уныло допивали свой чай, а Василиса Егоровна ушла на кухню шуметь посудой.
– А можно, мы у вас газету на секундочку заберем? – сказал наконец Венька, почему-то сильно волнуясь. – На одну секундочку. И тут же вернем обратно.
– Да можете забрать ее хоть насовсем, только мне еще про спорт почитать надо.
Венька не отошел от Филиппа Алексеевича ни на шаг, пока тот просматривал результаты футбольных матчей.
– Да-а, – в конце концов протянул Колькин отец. – Не выйдет, видимо, уже Бобров на поле. Только тренером. А какой был центральный форвард! Я помню, “Динамо” включило его в состав для поездки в Англию, а он...
– Можно газету? – робко попросил Венька.
В Колькиной комнате, едва за нами закрылась дверь, он рухнул на диван, подбросил газету над головой и, стараясь, чтобы его не услышали в гостиной, зашипел, как змея:
– Ура, чуваки! Тридцать три! Говорю вам – это тридцать три оборота! Лабаем джаз!
Мы с Колькой стояли перед ним, как два школьника, и ждали, когда у него это пройдет.
И мы прочитали: “...младший сержант Асхат Зиганшин и рядовые Федотов, Поплавский, Крючков... почти два месяца назад... на оторвавшейся от причала барже... и были унесены штормом в открытое море... Ни продовольствия, ни воды, ни горючего... Потерявшие надежду солдаты... сила человеческого духа наших ребят... оказались вынуждены питаться собственными ремнями, а также разрезанными на кусочки кожаными мехами гармони...”
– Ну и что? – сказал Колька. – А где тут тридцать три? Гармонь, что ли? Я не понял.
– Сам ты гармонь! Ты посмотри на фотографию.
На всех четверых были узкие брюки и стильные пиджаки с широкими плечами.
– Теперь понял? – сказал Венька.
– Нет, – ответил за Кольку я.
– Ну вы оба тупые! Их в Америку привезли! Авианосец ведь был американский! Чуете?
Но мы не чуяли. Нам хотелось, чтобы Венька все разъяснил. Или по крайней мере сказал, что мы будем завтра делать на семинаре по акушерству.
– Вы что, совсем сбрендили? Какой семинар? Какое, на хрен, акушерство? Я вам говорю – нам баржа нужна!
Венька не всегда был стилягой. Сначала он был просто Венькой, потом комсомольцем, потом очень строгим комсомольцем, а потом уже, наконец, стилягой. И в Москве он тоже жил не всегда.
В наш медицинский ему пришлось переводиться из Ленинграда. С потерей года. Но ему было все равно. Его не волновало даже то, что ему демонстративно отказали в общежитии.
– А мне без разницы, где стилять, – небрежно говорил он, выходя по утрам из каморки институтского дворника. – Я Петровича уже научил галстук завязывать. Готовлю его к “шузам” на “манке”. Спорим, завтра он будет в них подметать?
Развитию дворника Петровича помешало участие Колькиных родителей. Узнав про Веньку, они велели немедленно его привести и предложили ему перебраться в их квартиру на Маяковке. Он согласился.
В ленинградском “меде” Венька успел проучиться три семестра. Больше они просто не могли позволить ни ему, ни себе. То, что он там устраивал, не шло ни в какое сравнение с нашим патриархальным московским “стилянием”.
Но сначала он был комсоргом. И, как все комсорги, ездил с бригадмильцами бить стиляг – на самые разные танцплощадки, к магазину “Советское шампанское” на Садовой, который стиляги сокращенно называли “США”, в парикмахерскую на Желябова, где стригли лучшие ленинградские коки, и на площадку у “Европейской”, куда стекались самые клевые фарцовщики Ленинграда.
Фарцовщики избивались, коки отрезались, широченные пиджаки и узкие брюки приводились в негодность. Все шло как нельзя лучше.
Пока вдруг не случилось непоправимое.
Посреди всей этой идиллии, как гром среди ясного неба, на Веньку свалился Чабби Чеккерс.
Пораженный страшным открытием, Венька некоторое время просто не знал, что ему делать. Пропускал комсомольские собрания, мучился от бессонницы, худел. Потом, наконец, сдался и, закрывшись наглухо у себя в комнате, сам попробовал танцевать. Cо временем в его несуразных движениях паралитика стало что-то проклевываться.
После долгих сомнений он решился на то, чтобы сделать это перед старым шифоньером с огромным зеркалом в комнате родителей, пока тех, разумеется, не было дома.
И понеслось.
Едва нарождающийся в советской стране твист открыл ему то, на что комсомол не был способен. Венька еще продолжал ездить с оперотрядами, но твистеров уже выделял в отдельную касту. Обычных стиляг бил и сам, а за твистера мог запросто врезать кому-нибудь из бригадмильцев. Помогая однажды известному среди стиляг твистеру Толику по кличке Пижон сбежать с оцепленной танцплощадки, он окончательно покинул мир преследователей и стал одним из преследуемых.
Так песенка “Twist again” десятибалльным штормом раскачала Венькину жизнь, и вот теперь он хотел баржу.
Убегая с той танцплощадки, он уговорил Толика Пижона показать ему, что такое по-настоящему стильный твист. Полночи они провели в скверике рядом с Венькиным домом. Испещренный призрачной тенью листвы, Толик мягко качался на полусогнутых ногах, скрипел гравием и повторял:
“Вот так, чувачок... Понял, как надо? Плавненько! Ну куда ты рвешь?.. И руками, как полотенцем обтирайся. Как будто оно у тебя за спиной. Туда и сюда... Как мочалкой...”
Венька страшно гордился своим знакомством с Пижоном и через два года, когда тот тоже решил на время “кинуть кости” в Москву, повел его в самые твистовые рестораны. Если бы Чабби Чеккерс узнал, что2 эти двое вытворяли на втором этаже “Будапешта”, в кафе “Молодежное”, в ресторане “Урал” на Петровке или в гостинице “Советская”, он – сто процентов – бросил бы все свои дела в Штатах и примчался первым самолетом в Москву посмотреть на такой сейшн. Потому что это надо было увидеть. Взволнованный “пипл” выносил Веньку с Пижоном из этих мест на руках.
Именно Толик Пижон объяснил Веньке, что “чувак” расшифровывается как “человек, усвоивший высшую американскую культуру”.
После той памятной ночи в скверике учебу Венька почти забросил, а вскоре поехал в Харьков на съезд стиляг, который проводила там совсем не комсомольская организация под названием “Голубая лошадь”. Вернувшись оттуда, он решил, что ему пора самому играть твист.
Поскольку ни одним инструментом он не владел, ему пришлось для этой цели переманивать музыкантов из институтского духового оркестра. Состав получился немного пестрым, но твист поначалу хотели играть все. Венька день и ночь проводил на репетициях, голосом и движениями показывая “составу”, как это всё должно быть. В итоге он так ловко научился изображать саксофон и ударные, что запросто мог бы выступать на концерте вместо них.
Иногда он так, в общем, и делал. Когда очередной музыкант, уставший от натиска и бесконечных репетиций, отправлял его к черту, Венька выбегал на сцену с саксофоном в руках и, не поднося его ко рту, начинал дудеть к полному восторгу своих поклонников. Состав, названный им “Волосатое стекло”, почти мгновенно стал популярен во всех ленинградских институтах.
Но Венька упивался славой недолго. Ему захотелось электрогитару.
Один технический журнал сдуру опубликовал тогда статью какого-то пня из самодельщиков о том, как переделать акустическую гитару в электрический инструмент. При помощи телефонного устройства. Через две недели после выхода этой статьи ни в Москве, ни в Ленинграде не осталось ни одного работающего автомата.
Венька успел раскурочить семь. На восьмом его повязали и отвели в отделение, где уже сидело человек двадцать. Всех взяли в телефонных будках.
Когда его поперли из института, рядом с деканатом вывесили плакат: “Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст”. Напирая на свои прежние заслуги перед комсомолом, Венька умудрился добиться перевода, а не отчисления. Плакат он привез с собой в Москву и повесил в дворницкой у Петровича. Тому было все равно. Он сам вернулся с Колымы только из-за амнистии пятьдесят третьего года.
Познакомившись со мной и с Колькой в первый же день у нас на курсе, Венька усмехнулся над нашими просторными, как паруса из книги Александра Грина, штанами и сказал: “Ну что, лабухи, дремлет первопрестольная?”
И у нас с Колькой началась новая жизнь...
Перед семинаром по акушерству Венька затащил нас в пустую аудиторию и показал учебник по клинической психиатрии.
– Оцените, чуваки! Еле-еле библиотекаршу уболтал. Упиралась, как бык. Говорила – только для старшекурсников.
– А на фига он нам? – спросил Колька. – Там же нет ничего про кровеносную систему.
– И не надо! – усмехнулся Венька. – Устроим сегодня цирк. Зябликовой будет не до сосудов.
– В каком смысле цирк? – спросил я.
– В самом прямом. Открывайте главу “Симптомы шизофрении”. Там всё, что нужно.
Колька автоматически взял книгу у него из рук и начал листать.
– Подождите, – сказал я. – Придуриваться, что ли, будем? Под сумасшедших?
– Поздравляю, – сказал Венька. – Допер наконец.
– Нет, я не буду.
Колька тоже замер и перестал шелестеть страницами.
– Пару воткнет – зачешешься, – пожал плечами Венька. – Но будет поздно. Не допустит к экзаменам – и трындец. А нам надо выиграть время. Я насчет баржи пока еще не до конца все решил. Целую ночь не спал. Проблема связи. Нужна будет рация. Иначе американцы нас будут слишком долго искать.
– Ты что, совсем сдурел?
– Пока еще нет. Но вот почитаю учебничек и сдурею.
Мы с Колькой молча стояли посреди аудитории, а Венька спокойно уселся за преподавательский стол и начал просматривать оглавление.
– Так... Абулия... Посмотрим, что у нас тут... “Ослабление и распад волевых процессов... В тяжелых случаях больной настолько пассивен, что не способен обслуживать сам себя”... Клёво... Что еще? “Парамимия – гримасничанье. Парапраксия – вычурные позы, походка, манекенообразность и угловатость движений, манерность жестов”... Чуваки, тут все про Зябликову. Вот по кому Кащенко плачет.
– Венька, ты что, серьезно? – спросил я.
– Подожди, подожди! Кажется, есть кое-что... Кататонические симптомы... “Мутизм – нарушение волевой сферы, выражающееся в остановке речи... Закупорка... Шперрунг”... Хм... Может, шперрунг попробовать? Название стильное... Но если просто молчать, она точно поставит пару. Откуда ей знать, что у меня шперрунг покатил? Подумает – молчит, и фиг с ним. Нет, надо что-то другое...
– Я пошел, – сказал я.
Венька поднял голову от учебника и, прищурившись, посмотрел на меня.
– Чего ты дрейфишь? Не хочешь прикалываться – не надо. Я один все сделаю. Сам потом скажешь спасибо.
Видя, что я не отхожу от двери, он добавил:
– Или стукнуть решил?
Остановился он на атактических расстройствах.
– Вот, чуваки. То, что надо... “Речь становится неконкретной, витиеватой, неуместно абстрактной и символичной. При прогрессировании речевых расстройств теряется логическая связь между блоками фраз и отдельными предложениями. Наконец, возникают логические нестыковки между отдельными словами”... Чуете? Песня, а не симптомы. Двинули на семинар! Весь вечер на арене клоун Бенджамин!
Не знаю, как Зябликовой, но остальным поначалу точно показалось, что у Веньки не все дома. Стоило ей войти в аудиторию и посмотреть в направлении нашей троицы, как он поднял руку и, не вставая с места, начал говорить. Он сообщил ей о том, что советская медицина совершила небывалый скачок в области гинекологии и акушерства; что забота о женщине и о новорожденных в нашей стране превысила все мировые показатели; что капиталистические страны в этой сфере значительно отстают от нас по производству цветных металлов на душу населения; что младенцы в США и в Европе появляются на свет с пятимесячной задержкой, но зато у каждого из них есть свой маячок в качестве компенсации; что его самого зовут Орландо Эстонский; что его замучил постоянный параллелепипед в голове; что буддистская драматургия в нем инкогнито сидит и что албанцы втихую пожирают его мозг...
– Ну и плевать, – сказал он, дождавшись нас на улице после семинара. – Подумаешь, выгнала! Зато пару никому не поставила. Держите учебник. Найдёте мне к понедельнику симптомы ПШД – постшизофренической депрессии. Я уезжаю.
– Куда? – в один голос произнесли мы с Колькой.
– Сказал же – рация будет нужна. У меня в Ленинграде кореш остался, радиолюбитель. И в мореходку зайду. Надо переговорить насчет навигации. Интересно, бывают баржи с мотором? Вы как думаете, чуваки?..
Вернувшись через три дня, он сообщил нам, что с рацией не покатило. Радиолюбителя месяц назад замели за приемничек, по которому он слушал “Голос Америки”. И, хотя отпустили его почти сразу, он так перебздел, что по винтику разобрал всю свою аппаратуру.
– С космической скоростью, – пояснил Венька. – И все детали утопил в Неве.
Не успели мы с облегчением вздохнуть, как он огорошил нас новыми планами:
– Короче, летом двигаем на Дальний Восток. Там этих барж немерено. Отвяжем потихоньку и поплывем. Обойдемся без рации. Я к тому времени выучу карту океанских течений. Должна же быть такая карта. Или нет?
Но самое неожиданное, с чем он вернулся из Ленинграда, была песня. Мы уже две недели готовились к институтскому вечеру, на котором собирались танцевать твист, однако Венька решил теперь изменить программу. Изначально мы с ним вдвоем должны были лабать на сцене под Чабби Чеккерса, а Колька выходил в середине танца и начинал читать Маяковского. В том смысле, что мы с Венькой такие уроды, “золотая молодежь” и вообще дрянь, а всем надо типа идти на субботник. После стихотворения Колька бежал за кулисы и возвращался с метлой нашего дворника Петровича, которой прогонял нас со сцены.
Метла и Колькины прыжки с ней были очень важны, потому что иначе мы бы никогда не смогли сбацать твист при всем факультетском начальстве и не вылететь после этого из института. Колька и так появлялся на сцене довольно поздно. К его выходу на голове у декана волосы уже должны были стоять дыбом. Для нас это была единственная возможность показаться у себя в институте в том прикиде, в котором мы давили стиль на “Бродвее”. Но Венька решил все отменить.
Он сказал:
– Будем петь буги. В обычном тряпье.
И мы стали петь буги.
А пока репетировали, он продолжал свою “шизоидную” войну с Зябликовой. Из того, что мы подобрали ему во время его поездки в Ленинград, он одобрил только депрессивно-дистимический вариант.
– ПШД, чуваки, должна быть полна грусти. Как песня Элвиса Пресли “Лав ми тендер, лав ми тру”. На то она и ПШД.
На занятиях у Зябликовой он старательно имитировал меланхолический аффект, являя всему курсу образ вселенской скорби. Зябликова посмеивалась над ним и вслух сравнивала его с картинами Врубеля, но Венька не собирался сдаваться. Она предупредила, что положит конец серии его блестящих успехов во время экзаменов, а он ответил рассуждениями о бессмысленности жизни, об ощущении собственной малоценности, о том, что он вообще больше ни в чем не уверен, и о странном невыраженном чувстве вины перед своими близкими.
Ко всем этим переменам добавились наши новые имена. Венька заявил нам, что теперь мы будем называть друг друга, как те чуваки с баржи. По его мнению, это было клёво и вообще должно было сплотить нас, объединить, взбодрить и воодушевить.
Удивляясь про себя не столько самой идее, сколько количеству глаголов, я решил, что он все-таки слишком увлекся витиеватостью речи. Зябликовой в этот момент рядом с нами не наблюдалось. Впрочем, я тут же порадовался, что ему не пришло в голову ради тренировки поесть ремней. К этому я точно был не готов.
– Только я буду не просто Зиганшин, – добавил Венька, – а Зиганшн. Без буквы “и”. Так вообще суперклёво. По-американски. И поется как рок-н-ролл. Ты кем будешь, Колька?
– Поплавским, – сказал тот. – У отца есть один знакомый Поплавский. Генерал армии. В войну командовал стрелковой дивизией.
– Так, может, этот Поплавский его сын?
– Вряд ли. Он теперь в Польше живет. Командующий их сухопутными войсками.
– Клёво, – сказал Венька. – А ты, Саня, кем хочешь быть?
Мне вдруг опять вспомнился фильм “Небесный тихоход”, и в голове у меня зазвучала песня “Махну серебряным тебе крылом”.
– Я хочу быть Крючковым, – сказал я.
– А Федотовым?
– Нет, Крючковым.
– Ну смотри, – пожал он плечами. – А то был такой знаменитый художник. “Сватовство майора” нарисовал. И еще футболист.
– Футболиста я знаю, – сказал я. – А летчика не было? Боевого летчика?
– Насчет боевого – я, честно, не в курсе. Разве что летчик-испытатель. Но не уверен. Не буду врать.
– Тогда Крючковым.
– Договорились. Слушайте, чуваки, а может, четвертого найдем?..
На концерте наш номер поставили во втором отделении. Мы выступали сразу после танца узбекских хлопкоробов. За кулисами была страшная толкотня, и Веньку несколько раз выталкивали на сцену раньше времени. Оказываясь перед зрителями, он потешно раскланивался, и в зале благодарно смеялись. Им было скучно смотреть на танцующих первокурсниц. То есть сначала им было не очень скучно, потому что только что был антракт, и потому что девчонки все были с косичками, с сотней, наверное, косичек – непонятно, сколько времени они их заплетали, – но потом эти косички тоже достали всех. И тут, к счастью, Венька начал вываливаться из кулис.
Как стойкий оловянный солдатик.
А я к этому времени уже сильно устал и перенервничал. Выступление ректора и первая часть концерта заняли часа два. Все это время мы стояли за сценой и шепотом ругались друг с другом. Мне было странно, что Венька совсем не волнуется, а, наоборот, вовсю веселится, и я об этом ему говорил, но он беззвучно смеялся, показывал мне кулак и прокручивал у виска пальцем. Вот так прошло два часа. Потом объявили антракт и появились узбекские хлопкоробы.
Убегая со сцены, первокурсницы стукали Веньку и, как заведенные, повторяли: “Дурак!”
– Поехали! – крикнул он нам с Колькой.
Мы вышли на авансцену, и я немедленно вспомнил симптомы шизофрении из Венькиного учебника. Манекенообразность. Угловатость движений.
Это было про нас. И вычурность поз тоже. Все совпадало.
Стать шизофреником оказалось очень легко. Я, например, даже не представлял себе, что в нашем зале может уместиться столько народу.
– Шуба-дуба! – страшно закричал за кулисами Венька и выскочил вслед за нами.
В передних рядах кто-то свистнул, но туда сразу же двинулись от входа дружинники из институтского оперотряда. Досмотреть – чем кончилось, я не успел.
Венька, как барабанщик палочками, щелкнул три раза пальцами и весело задудел на своем невидимом саксофоне.
Это были вступительные аккорды к рок-н-роллу Элвиса Пресли “My Blue Suede Shoes”. Мы с Колькой качнули головами, но вместо:
One for the money,
Two for the show...
врезали совсем, совсем другое.
Когда после первого куплета в зале поднялся невообразимый крик и дружинники уже не знали, куда бросаться и кого хватать, я, наконец, понял, что должен был испытывать Венька в ту ночь, когда мчался на поезде к нам из Ленинграда в Москву, и как ему, наверное, не терпелось поделиться с нами этой замечательной, этой самой лучшей на свете песней.
Но самое главное – я понял, что испытывал Элвис.
Венька как сумасшедший дудел на своем “саксе”, мы с Колькой трясли головами так, что они только чудом не отрывались от наших шей, а зал, завывая, уже повторял припев вместе с нами:
Зиганшин-буги,
Зиганшин-рок,
Зиганшин съел один сапог...
В какой-то момент я поймал взглядом совершенно белое от ужаса лицо декана, но его тут же закрыла от меня огромная спина человека с красной повязкой, и я продолжал своим уже практически сорванным голосом:
Как на Тихом океане
Тонет баржа с чуваками.
Чуваки не унывают,
Под гармошку рок лабают...
И зал опять в восторге ревел:
Зиганшин-буги,
Зиганшин-рок...
Когда мы подошли к последнему куплету, я на мгновение вдруг вспомнил наши споры с Венькой насчет того, надо ли его вообще петь, и теперь прямо на сцене успел удивиться своим глупым, никчемным сомнениям.
Конечно, надо!
И врезал:
Москва, Калуга, Лос-Анжелос
Объединились в один колхоз.
Зиганшин-буги,
Зиганшин-рок,
Зиганшин съел второй сапог!
То, что творилось за кулисами, когда мы ушли со сцены, словами описать невозможно. Примерно, как будто Гагарин слетал в космос еще раз. И опять – в первый.
“Узбекские” первокурсницы набросились на Веньку и начали его целовать, а он кричал: “Отвяжитесь, дуры!”, смеялся и хватал их за плечи.
Никогда в жизни я больше не был так счастлив, как в тот момент. С годами я понял, что ощущение полного и абсолютного счастья вообще никогда не длится дольше минуты. Где-то в атмосфере или над ней происходит что-то никому непонятное, и всё на минуту соединяется, сходится, как стрелки на циферблате в двенадцать часов. И у тебя вдруг всё получилось.
Вот только до конца никогда не ясно – полдень это или все-таки полночь.
Нас всех троих тогда почти сразу отвели в деканат, и по дороге на третий этаж мы еще веселились, толкали друг друга на лестнице, а Венька повторял, чтобы мы всё валили на него одного, что песню из Ленинграда привез он и бригадмильцами его не испугаешь. Мы с Колькой мотали головами в знак своего отчаянного несогласия, потому что, с одной стороны, не могли возразить вслух из-за сорванных голосов, а с другой – были уверены, что разлучить нас троих уже ничто на свете не сможет. Но мы ошибались.
Некто по имени Олег Степанович уже поджидал нас в деканате. А с ним – доцент Зябликова. Которая неизвестно по какой причине сообщила ему о Венькиных фокусах. О “постшизофренической депрессии”, о меланхолии, о неуверенности в себе. Быть может, она этим хотела нам всем помочь – неизвестно.
Поскольку она уже догадалась, что песня тут совсем ни при чем. Этого Олега Степановича интересовала наша затея с баржей.
Потом уже Венька выяснил, что стукнул на него тот самый знакомый радиолюбитель из Ленинграда, но в этот момент в деканате у нас было такое ощущение, как будто нас предал весь мир.
И в психушке, куда нас привезли через два часа, у меня было точно такое же ощущение. Даже еще хуже.
“...посредством купирующей терапии аминазином и галоперидолом”, – сказал Олегу Степановичу главврач, и нас развели по палатам.
Забавно, но Веньке не было плохо даже в дурдоме. Он быстро подружился с главврачом, договорился, чтобы нам не делали никаких уколов, и целые дни проводил в палате у одной странной еврейки, которая попала сюда, пытаясь ночью зарезать своего мужа. Прямо в постели, пока тот спал.
Венька сказал нам, что она сделала это из религиозных соображений.
Но меня не очень интересовали его рассказы. На третий день в психушке опять появился Олег Степанович. На этот раз он вызвал для разговора одного меня.
Оказалось, что Колькин отец, Филипп Алексеевич, накануне чистил свой трофейный “Вальтер” и в результате несчастного случая погиб. У Василисы Егоровны, у которой было слабое сердце, случился обширный инфаркт и она скончалась в больнице. И вот теперь Олег Степанович хотел, чтобы я, как друг, рассказал обо всем этом Кольке.
– Ему будет легче услышать это от вас.
А я потом несколько дней ходил по больнице и думал: как же мне это сделать? Я вообще о многом думал тогда – о том, что было бы, если бы Колькины родители не повели себя так гостеприимно и Венька остался бы жить в каморке Петровича; о том, что Филипп Алексеевич не мог позабыть о патроне в стволе, потому что он всегда о нем помнил; о том, что будет теперь со мной, и о том, как странно это все складывается, – вот люди любят друг друга, а потом – раз! – и умирают в один день.
Но главное – я думал о том, как мне сказать Кольке.